Запутанность. Между страстью и долгом
Приходилось ли вам делать в жизни выбор между чувствами и долгом? Чем вы руководствовались, когда делали этот выбор?
Расскажу вам историю молодого человека Антона, учителя английского языка. Его привлекло в группу её название "Преодоление запрета проявляться", он решил, что это для него. Некоторое время назад Антон ушёл из школы и стал фрилансером. Он столкнулся с тем, что надо набирать частных учеников. Для этого ему нужно распространять информацию о себе, давать открытые уроки в организациях, делать сайт. И хотя ему удавалось составить для себя план действий, придерживаться его он не мог – выполнит пункт-другой, а потом разочаровывается в плане и норовит все поменять, и от этого ощущает запутанность.
В начале первого занятия я попросила его нарисовать рисунок как метафору его запрета проявляться, и на рисунке появились солнце (большое, на две трети листа), тёмные очки и плачущие глаза. И маленький воробей. Я спросила, что значит этот рисунок, а Антон ответил то, что пришло ему в голову – когда на улице яркое солнце, он не может ходить без тёмных очков, у него слезятся глаза. А когда солнце яркое, маленьких птичек не видно.
Расскажу вам историю молодого человека Антона, учителя английского языка. Его привлекло в группу её название "Преодоление запрета проявляться", он решил, что это для него. Некоторое время назад Антон ушёл из школы и стал фрилансером. Он столкнулся с тем, что надо набирать частных учеников. Для этого ему нужно распространять информацию о себе, давать открытые уроки в организациях, делать сайт. И хотя ему удавалось составить для себя план действий, придерживаться его он не мог – выполнит пункт-другой, а потом разочаровывается в плане и норовит все поменять, и от этого ощущает запутанность.
В начале первого занятия я попросила его нарисовать рисунок как метафору его запрета проявляться, и на рисунке появились солнце (большое, на две трети листа), тёмные очки и плачущие глаза. И маленький воробей. Я спросила, что значит этот рисунок, а Антон ответил то, что пришло ему в голову – когда на улице яркое солнце, он не может ходить без тёмных очков, у него слезятся глаза. А когда солнце яркое, маленьких птичек не видно.
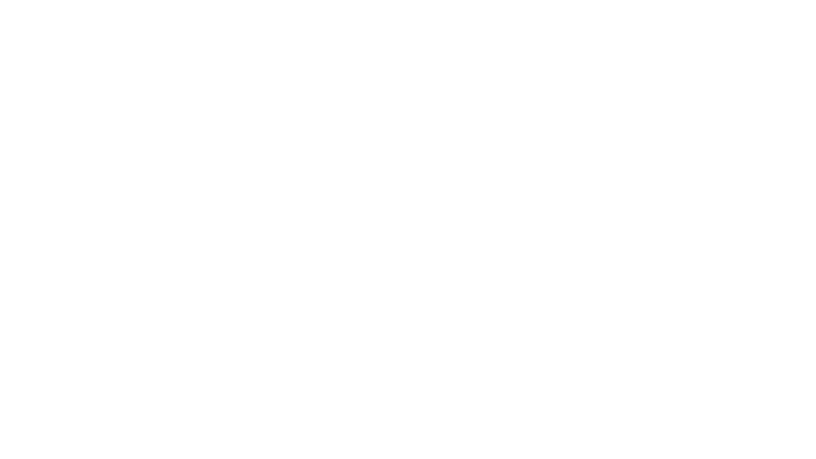
Мы с группой начали делать сцену с этой метафорой. Антон сначала пошёл на роль солнца и из нее сказал: «Меня очень много. Я всё здесь вижу и всё контролирую. Но единственный, кого я не могу контролировать – это воробей». Затем Антон пошёл на роль плачущих глаз, и эти глаза сказали: «Я все время должен контролировать солнце. Что оно скажет? Не скажет ли оно лишнего?» И столько темперамента было в этих словах, что стало понятно: этот персонаж – живой человек. Я попросила глаза представиться, и они ответили: «Я дедушка Антона. Мне 89 лет. Я жив. Я участник войны. Когда началась война, мне было 13 лет. Я жил на оккупированной территории, где шла партизанская война». Я спросила деда, что такое Солнце? Это человек? Дед ответил: «Нет, это событие. Я думаю, это война».
Дальше Антон перешёл на роль тёмных очков, и тёмные очки сказали: «Я прекрасно себя чувствую. Мне не нужно никого контролировать. Я хорошо ориентируюсь в жизни, чувствую себя свободно». Я спросила, кто он, он сказал: «Я тот же дедушка, но мне 18 лет, это сразу после войны. Я очень рад, что война кончилась».
Наконец, Антон пошёл на роль воробья, и воробей сказал: «Я и есть Антон. И я не знаю, мне здесь стыдиться или гордиться». Я не поняла, что имелось в виду, воробей уточнил: «Я имею в виду деда. Могу ли я стыдиться его или гордиться им».
Дальше Антон перешёл на роль тёмных очков, и тёмные очки сказали: «Я прекрасно себя чувствую. Мне не нужно никого контролировать. Я хорошо ориентируюсь в жизни, чувствую себя свободно». Я спросила, кто он, он сказал: «Я тот же дедушка, но мне 18 лет, это сразу после войны. Я очень рад, что война кончилась».
Наконец, Антон пошёл на роль воробья, и воробей сказал: «Я и есть Антон. И я не знаю, мне здесь стыдиться или гордиться». Я не поняла, что имелось в виду, воробей уточнил: «Я имею в виду деда. Могу ли я стыдиться его или гордиться им».
Когда мы с Антоном вышли за сцену и попросили всех участников произнести слова своих персонажей, я спросила, стало ли ему яснее, о чем здесь речь? Он предположил, что во время войны дед поучаствовал в некоем событии, но сам не знает, как к нему относиться. Дед никогда о нем не говорил, но событие висит между нами и запутывает и его, и Антона.
Я спросила, какие у него отношения с дедом. Он ответил, что сложные, с самого детства. С одной стороны, дед много им занимался. С другой стороны, однажды в раннем детстве в деревне бабушка попросила Антона проследить, где дедушка прячет "заначку" в виде самогонки. Он выполнил её просьбу, а когда дед узнал об этом, то назвал внука предателем. Это больно ранило его, и эту боль он не может забыть до сих пор.
Я спросила, какие у него отношения с дедом. Он ответил, что сложные, с самого детства. С одной стороны, дед много им занимался. С другой стороны, однажды в раннем детстве в деревне бабушка попросила Антона проследить, где дедушка прячет "заначку" в виде самогонки. Он выполнил её просьбу, а когда дед узнал об этом, то назвал внука предателем. Это больно ранило его, и эту боль он не может забыть до сих пор.
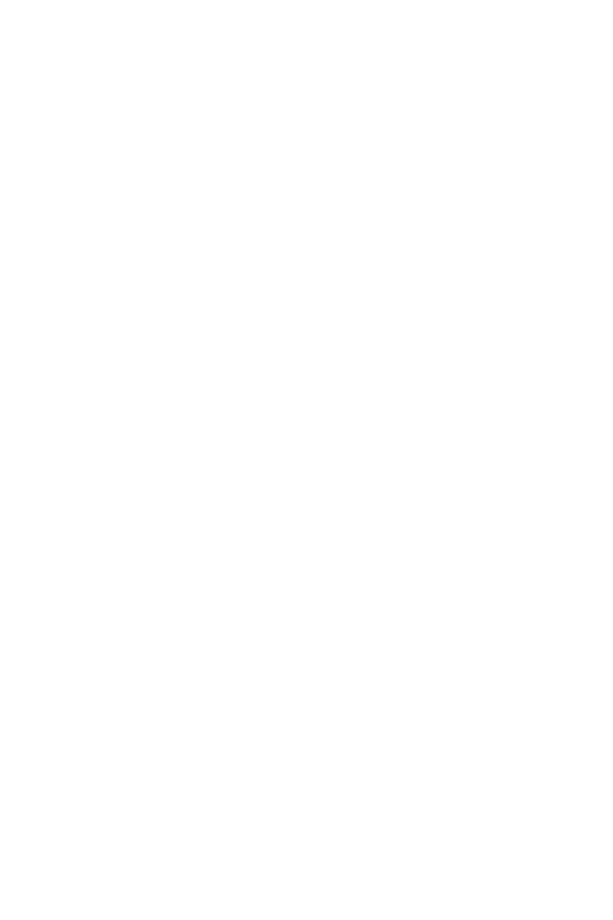
Я смотрела на нашу сцену, на рисунок и думала – как странно, что из четырёх персонажей два – это один и тот же человек, и нет больше ни одного члена семьи или друга детства, как бывает на подобных рисунках. Уж слишком сильно Антон был сфокусирован на своём дедушке. У меня появилось ощущение загадки, как будто этой метафорой клиент на самом деле старается что-то скрыть. Я подумала, может, Антон что-то хочет сообщить о себе, о каком-то своём событии, в котором он запутался, но вместо этого рассказывает о своем деде, как бы прикрывается дедом? Это происходит неосознанно и проявляется в метафоре рисунка.
И я сказала ему об этом. Мы закончили сцену, участники поделились чувствами. А после группы Антон подошёл ко мне и сказал, что у него действительно есть одно событие, но обсудить его он может только со мной.
И я сказала ему об этом. Мы закончили сцену, участники поделились чувствами. А после группы Антон подошёл ко мне и сказал, что у него действительно есть одно событие, но обсудить его он может только со мной.
Через несколько дней он пришёл на личную консультацию и вот что рассказал: «Когда я работал в школе, я влюбился в девочку, старшеклассницу. Я был без ума. Когда я понял, что со мной происходит, сразу решил, что надо уходить из школы, потому что никакого будущего у этого чувства нет.
Думать об этом мне было мучительно и стыдно, но при этом я на каждом уроке ловил её взгляды. Мы с ней готовили праздник со стихами на английском языке, писали план, и мне казалось, что она относится ко мне как-то по-особенному. Я не мог не думать об этом и в то же время понимал, что надо уходить. Я планировал написать заявление каждое утро – и не уходил. Решил, что уйду после экзаменов – и не ушел. Я просто жил этими отношениями».
Думать об этом мне было мучительно и стыдно, но при этом я на каждом уроке ловил её взгляды. Мы с ней готовили праздник со стихами на английском языке, писали план, и мне казалось, что она относится ко мне как-то по-особенному. Я не мог не думать об этом и в то же время понимал, что надо уходить. Я планировал написать заявление каждое утро – и не уходил. Решил, что уйду после экзаменов – и не ушел. Я просто жил этими отношениями».
Однажды мама девочки попросила Антона позаниматься с дочерью, подготовить её к экзаменам. Он понял, что это немыслимо, но всё же решил, что не может отказать маме, что он должен объясниться с девочкой. Возможно, он ей признается и скажет, что не должен с ней заниматься. Где в глубине души он, наверное, надеялся, что она ответит ему взаимностью.
День занятия наступил, он страшно волновался. Она пришла, и пока они занимались английским, всё думал, открыться ей или не открыться. И так случилось, что именно в этот момент его сестра стала присылать в мессенджер оцифрованные старые семейные фотографии, Антон взял телефон, увидел фото дедушки, и как будто услышал его голос: «Молчи!».
Антон сказал девушке, что дальше не сможет с ней заниматься, потому что меняет работу. Она расстроилась, обиделась, но ему хватило сил попрощаться с ней. Когда она ушла, ему показалось, что он окаменел. На следующий день в школе Антон написал заявление об уходе и тут же его отдал.
День занятия наступил, он страшно волновался. Она пришла, и пока они занимались английским, всё думал, открыться ей или не открыться. И так случилось, что именно в этот момент его сестра стала присылать в мессенджер оцифрованные старые семейные фотографии, Антон взял телефон, увидел фото дедушки, и как будто услышал его голос: «Молчи!».
Антон сказал девушке, что дальше не сможет с ней заниматься, потому что меняет работу. Она расстроилась, обиделась, но ему хватило сил попрощаться с ней. Когда она ушла, ему показалось, что он окаменел. На следующий день в школе Антон написал заявление об уходе и тут же его отдал.
Пока Антон рассказывал, я видела, что он говорит с трудом, дыхание было короткое, поверхностное. Я призывала его остановиться и подышать, но он говорил, что ему важно дорассказать мне до конца, потому что он ещё ни с кем этой историей не делился.
Когда он закончил, я сказала, что очень ему сочувствую. Я прежде не работала с учителями, но слышала истории, о том, как учителя вступали в интимные отношения с учениками. Он ответил, что в профессии есть этика, которая категорически запрещает такие вещи – и хорошо, что запрещает. Я спросила, как же он жил в эти годы. Антон ответил: «Я и сам не знаю, мне кажется, эти три года просто из моей жизни вон. Я был как каменный. Я почти не помню, что происходило. Как-то работал. Как-то общался».
Я спросила, есть ли у него друзья, девушка? Он ответил, что никого близко к себе не подпускает. «Я действительно в некотором смысле всю жизнь живу как партизан. С кем бы я ни общался, я всё время как будто запутываю следы. Я не могу просто открыто жить. Я назначу встречу – и сразу меняю время и место. Приглашу приятелей на день рождения в гости – переношу в кафе. Каждое событие я как-то видоизменяю. Я не могу придерживаться ни одного плана, и это ужасно».
Я сказала, что очень ему сочувствую, и я знаю, что значит любить того, кого нельзя. И мне кажется, что Чехов об этом знал, и Стендаль об этом знал, и Шекспир.
Когда он закончил, я сказала, что очень ему сочувствую. Я прежде не работала с учителями, но слышала истории, о том, как учителя вступали в интимные отношения с учениками. Он ответил, что в профессии есть этика, которая категорически запрещает такие вещи – и хорошо, что запрещает. Я спросила, как же он жил в эти годы. Антон ответил: «Я и сам не знаю, мне кажется, эти три года просто из моей жизни вон. Я был как каменный. Я почти не помню, что происходило. Как-то работал. Как-то общался».
Я спросила, есть ли у него друзья, девушка? Он ответил, что никого близко к себе не подпускает. «Я действительно в некотором смысле всю жизнь живу как партизан. С кем бы я ни общался, я всё время как будто запутываю следы. Я не могу просто открыто жить. Я назначу встречу – и сразу меняю время и место. Приглашу приятелей на день рождения в гости – переношу в кафе. Каждое событие я как-то видоизменяю. Я не могу придерживаться ни одного плана, и это ужасно».
Я сказала, что очень ему сочувствую, и я знаю, что значит любить того, кого нельзя. И мне кажется, что Чехов об этом знал, и Стендаль об этом знал, и Шекспир.
Я предложила психодраматически поговорить с этой девушкой. Мы поставили пустой стул, Антон представил, что она сидит напротив него и сказал ей о своих чувствах то, что давно хотел сказать: что он, кажется, до сих пор надеется её встретить и узнать, что она тоже любит его. Просит прощения за то, что он так её обидел, хотя этого не хотел. А потом из роли девушки он ответил: «Нет, я не была влюблена. Ты был такой вдохновлённый с нами, шутил, придумывал, как нас заинтересовать своим предметом. Я восхищалась тобой – да, даже хотела пойти учиться языкам. Но нравился мне совсем другой молодой человек».
Закончив этот разговор, я спросила: что с вами происходит? Антон ответил: «Знаете, очень странное ощущение: только что я вас увидел. Ваши глаза, лицо. Я понимаю, что почти целый час я вас не видел». Когда я спросила, как ему это ощущение, он ответил: «Мне очень комфортно. Видеть. Видеть, как вы на меня смотрите». На этом наша сессия закончилась.
Закончив этот разговор, я спросила: что с вами происходит? Антон ответил: «Знаете, очень странное ощущение: только что я вас увидел. Ваши глаза, лицо. Я понимаю, что почти целый час я вас не видел». Когда я спросила, как ему это ощущение, он ответил: «Мне очень комфортно. Видеть. Видеть, как вы на меня смотрите». На этом наша сессия закончилась.
Когда Антон пришёл во второй раз, первое, что он сообщил – что в прошлый раз впервые за долгое время он вышел на улицу и не надел тёмных очков. Он шёл по улице и замечал, как хорошо он видит людей, многих интересных людей, и женщин, и мужчин. А мне хотелось поделиться с ним тем, что я думала о его истории и, пожалуй, могу им гордиться. Он ответил, что тоже, наверное, может гордиться, но это гордость сквозь слёзы. Он также сказал, что вчера впервые за долгое время позвонил деду. Дед по-прежнему живёт в деревне, он лишился ног, бабушка умерла. Они проговорили два часа, и он понял, насколько он привязан к деду и насколько на него похож.
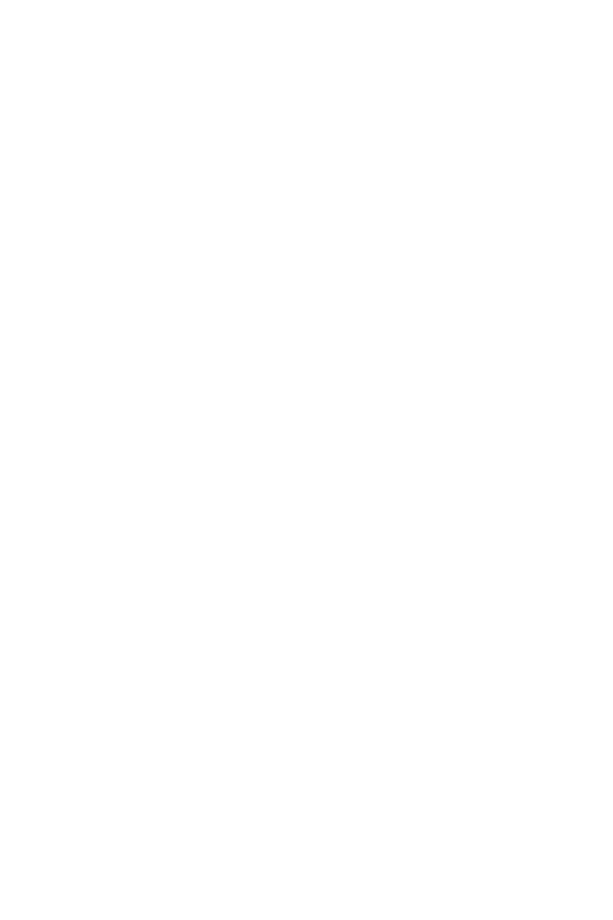
Дед рассказал, что во время войны каждое слово было на вес самого тяжёлого металла. Днём приходили немцы и спрашивали, не связан ли он с партизанами. А ночью приходили партизаны и спрашивали, не помогал ли он немцам. И нужно было с ними разговаривать, доказывать, что ты с ними заодно. А он был просто мальчиком, который помогал маме кормить семью, пахать землю. Его старшего брата сожгли из-за неосторожно сказанного слова. Тогда он понял, что говорить нельзя вообще никому и ничего. Слово скажешь – всё переврут. Он научился общаться так, чтобы ничего толком не говорить, и постоянно запутывал следы. Видимо, этот навык унаследовал внук.
И вот, с одной стороны, этот навык, или этот «партизанский» способ поведения запутывает отношения Антона с людьми, а с другой стороны, возможно, именно благодаря ему он смог сделать свой выбор между чувствами и долгом и удержаться в рамках этических норм.
И вот, с одной стороны, этот навык, или этот «партизанский» способ поведения запутывает отношения Антона с людьми, а с другой стороны, возможно, именно благодаря ему он смог сделать свой выбор между чувствами и долгом и удержаться в рамках этических норм.
Для меня как для члена общества важно, чтобы профессионалы, такие как врачи, учителя, полицейские, выполняли свой профессиональный долг.
Моя задача – это постараться помочь человеку преодолеть травму, полученную вследствие выполнения этого самого долга, чтобы он снова вернулся к жизни и смог строить тёплые, близкие отношения с людьми.
Моя задача – это постараться помочь человеку преодолеть травму, полученную вследствие выполнения этого самого долга, чтобы он снова вернулся к жизни и смог строить тёплые, близкие отношения с людьми.
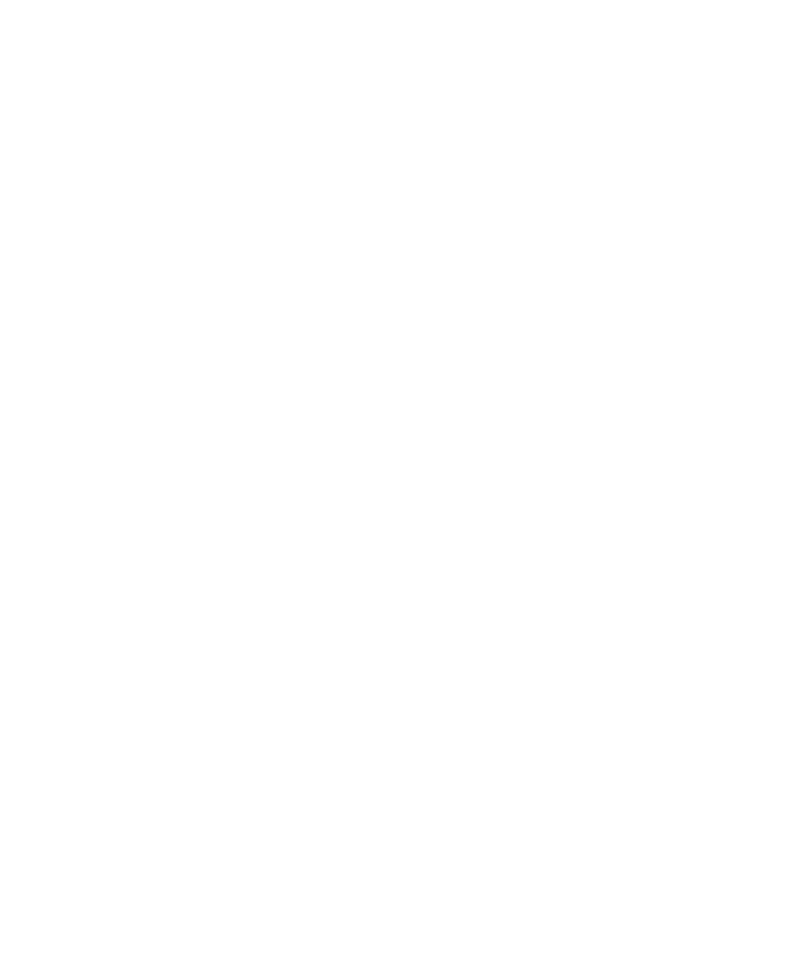
Автор статьи Евгения Рассказова
Психолог, психодраматист,
гештальт-терапевт,
автор книги
"Гештальт-подход и психодрама в терапии запрета проявляться"
Приглашаю на еженедельную гештальт-терапевтическую группу "Свобода проявляться"
с 9 октября 2019 г. по 4 марта 2020 г. в Москве
Психолог, психодраматист,
гештальт-терапевт,
автор книги
"Гештальт-подход и психодрама в терапии запрета проявляться"
Приглашаю на еженедельную гештальт-терапевтическую группу "Свобода проявляться"
с 9 октября 2019 г. по 4 марта 2020 г. в Москве
